Пионер в деле судоремонта и судостроения
Сегодня мы рассказываем нашим читателям о самом известном архангельском предпринимателе XIX века Якове Ефимовиче Макарове.
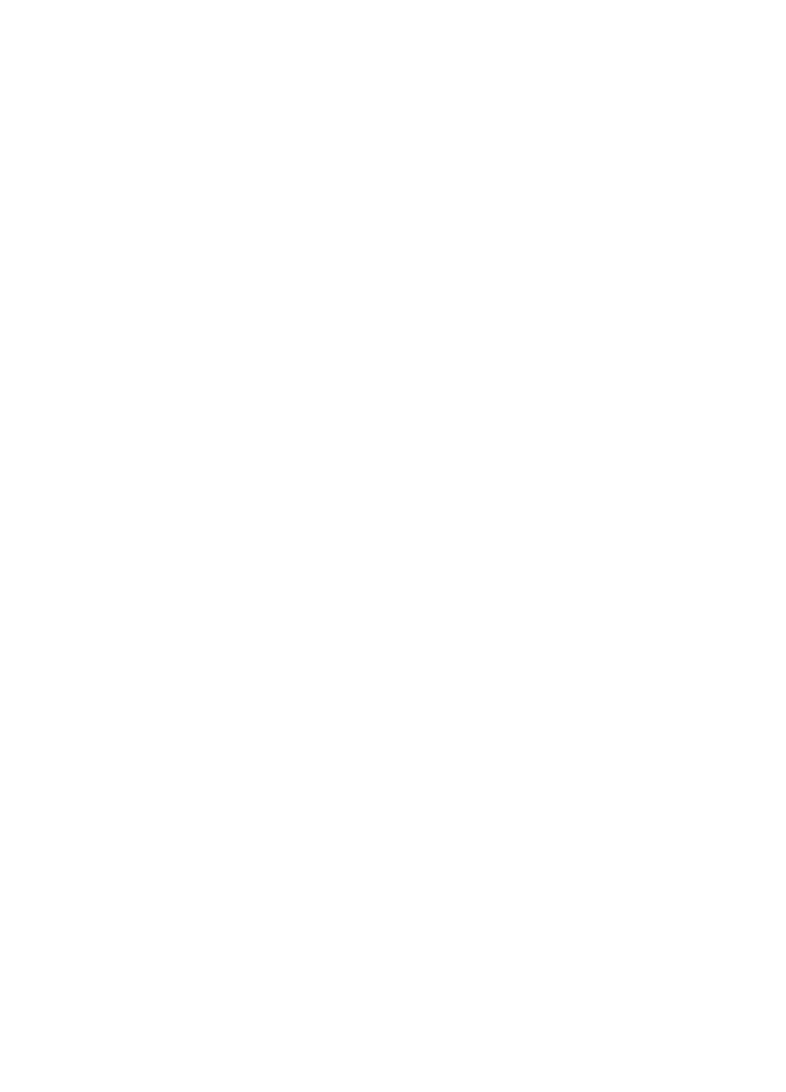
В Соломбальском округе недалеко от площади Терехина стоит трехэтажное кирпичное здание, построенное по проекту инженера С. Пеца в 1914 г. в стиле модерн. Это одно из самых выразительных зданий Архангельска.
Есть информация, что некоторое время здание использовалось как гостиница для иностранных моряков, поскольку в начале прошлого столетия именно в Соломбальской гавани швартовались большие иностранные суда. Впрочем, оно было построено, скорее, как жилой дом купцов Макаровых. А самым известным представителем макаровской династии был Яков Ефимович Макаров.
В начале пути
Родился Яков Ефимович Макаров в Архангельске в 1851 году. Его отец, Ефим Парфентьевич, прославился тем, что основал на берегу Северной Двины известные в Архангельске бани, расположенные между улицами Театральной и Пинежской. Чуть позже он соорудил чугунолитейную мастерскую в Соломбале.
В возрасте 16 лет отец послал его учиться в Петербург, в модный в то время Технологический институт (ныне – легендарная Техноложка). По возвращении на родину Яков Ефимович основал собственную мастерскую – на технической базе, принадлежавшей отцу. Отец же дал ему и первую рекламу. Опубликовал в «Архангельских губернских ведомостях» коммерческое объявление: «Сын мой, Яков Макаров, кончив курс учения в С.-Петербургском технологическом институте по мастерствам: литейному, слесарному, кузнечному, механико-токарному и пр., прибыл в Архангельск и в принадлежащих мне мастерских под личным своим наблюдением приспособил мастеровых к более удобной выделке изделий по новому способу и с применением новых усовершенствованных инструментов производит теперь отливку медных и чугунных вещей, требующихся на иностранные и русские суда и другие поделки… Надеюсь, что публика не оставит своим вниманием к заказам». Мастерская и стала началом собственного пароходства.
На левый берег и на Пинегу
У Макарова не было космических амбиций. Задача стояла достаточно скромная, но при этом вполне очевидная – обеспечить доступность окрестностей Архангельска. Природа так распорядилась, что даже практически все эти окрестности были островами, и сухим путем попасть на них можно было исключительно зимой. В другое время – только по воде. Но именно из-за «малого величия» этой задачи до Макарова никто ее даже не пытался решить. Было очевидно, что особых прибылей такое пароходство принести не может – в минус бы не выйти. Простой мужик, который валит лес или курит смолу, много, увы, не заплатит. Но Макаров понимал, что для полноценной городской инфраструктуры подобные рейсы являются жизненно необходимыми. Именно это соображение – а не извлечение сверхприбыли – было главным для него.
Сначала он построил три небольших пароходика, или «паровых барказа», для перевозки людей на левый берег и для пригородного сообщения. Документы сохранили названия макаровских судов. Это были «Перевозчик», «Соломбала» и «Первенец». По преданию, пароходик «Первенец» совершал рейсы по реке Пинеге, на нем не раз ездил на родину знаменитый Иоанн Кронштадтский.
Предпринимательский нюх молодого бизнесмена оказался безупречным: не за горами было время, когда к левому берегу подошла железная дорога и поток пассажиров из города устремился с речного на железнодорожный вокзал и обратно.
Вскоре в макаровской флотилии появились еще три парохода. Яков Ефимович не мудрил с их названиями. Они рождались естественно, сами собой: «Четвертый», «Пятый» и «Родина». А затем купец стал приобретать не только пассажирские, но и буксирные пароходы.
В конце XIX века предприниматель уже имел свой большой жилой дом, механический и лесопильный заводы, шесть пароходов, успешно вел заграничную торговлю. Уголь для нужд своих заведений и пароходов он выписывал из-за границы, чугун и железо приобретал на Усть-Сысольском и Кажимском заводах, лес покупал у частных лиц или с торгов в управлении государственного имущества. Общая стоимость имущества к тому времени составляла около 300, а годовой оборот капитала 500 тыс. рублей.
В начале ХХ века Макаров учредил акционерное общество «Архангельское речное легкое пароходство» с уставным капиталом в 100 тыс. руб. По уставу общества, подписанному Николаем II 26 апреля 1907 года, правлению разрешалось «приобретать в собственность, устраивать и арендовать строения, пароходы, суда, пристани, доки, верфи и другие сооружения».
Не роскошь, а гигиена
Тогда же Яков Ефимович унаследовал банное дело у отца, и приложил максимум усилий для того, чтобы бани сделались действительно народными. Как этого добиться? Рецепт один, и он известен. Снижать цены на билет. Только это способно сделать баню не роскошью, а гигиеническим учреждением.
Бани получились себе в убыток, но Макаров ежегодно делает ремонт, притом на собственные деньги. Больше того – обустраивает при банях купальню, дело и вовсе немыслимое по тем временам. В 1904 году Макаров строит Успенские бани в районе Санкт-Петербургского проспекта и Успенской улицы (угол проспекта Ломоносова и улицы Логинова), а в 1906-м строит баню в Соломбале, на Кузнечевском берегу Банного острова, недалеко от своего просторного дома.
Макаров любил технические новшества. В частности, одним из первых снабжает город электричеством. Пишет в газете «Архангельск»: «Сим имею честь довести до сведения гг. обывателей, что в скором времени в Архангельске будет готова моя электрическая станция, мощностью на первое время до 3000 ламп, при четырех машинах. Энергией могут пользоваться как для освещения, так и для двигателей беспрерывно круглые сутки; отпуск энергии и устройство проводов в квартирах будут исполняться на выгодных условиях. Желающие получить сведения и энергию, покорнейше прошу заявить лично или письменно в контору мою при заводе в Соломбале».
Человек необычайной энергии, Яков Ефимович не раз избирался гласным городской думы, стал известен многими делами. В 1913 году в одном из солидных изданий, увидевших свет в дни 300-летия дома Романовых, отмечалось: «Радея о нуждах родного города и будучи председателем пожарного общества, Макаров построил летний театр, доход с которого поступает на нужды пожарного общества, а теперь занимается устройством Народного дома… Яков Ефимович состоит директором Константиновского детского приюта, председателем Народного дома имени Петра Великого, вице-президентом бегового общества в Архангельске, директором местной тюрьмы, церковным старостой собора, членом попечительства о народном образовании при приходских училищах, казначеем Архангельского общества спасения на водах, членом портового присутствия от купеческого сословия, был председателем Сиротского суда и состоял беспрерывно в течение 16 лет гласным городской думы... Яков Ефимович кавалер орденов включительно до Владимира 4-й степени, имеет пожизненный знак Великого князя Владимира Александровича, знак общества спасения на водах, знак императрицы Марии Федоровны, медали от церковного ведомства, медаль за русско-японскую войну и в память Отечественной войны».
Накануне революции
Разумеется, всякое бывало в долгой жизни купца. Жители Соломбалы не раз жаловались в городскую думу на то, что Макаров огородил слишком большой участок суши и реки во время сооружения лесозавода, что, по их мнению, создало трудности для сообщения жителей Банного острова с городом. Не щадили Макарова и местные журналисты, резко критикуя непорядки в бане и на лесозаводе.
Крупная беда постигла купца в июле 1914 года: на бирже лесозавода почти полностью сгорел запас древесины. Получив страховку в размере 127 тыс. рублей, 63-летний заводчик сумел ликвидировать последствия пожара, не отошел от дел.
Испытания особого рода выпали на долю деловых людей России в 1917 году. Сразу же после февральской революции Яков Ефимович вкусил «прелести» новой власти.
Очевидец свидетельствует о том, что после получения вести о свержении царя рабочие-судоремонтники остановили работу макаровской лесопилки и отправились в город на демонстрацию. «При этом владельца завода, старика Макарова, – пишет он, – захватили с собой, предложив ему нести красное знамя. Наспех сделанный флаг был очень тяжел, так как полотнище его было прикреплено к длинной сырой рейке. Старик Макаров, протащив немного флаг, устал и взмолился, чтобы его освободили. Решили освободить, и флаг понесли другие».
Но это были только цветочки. Подлинная катастрофа разразилась позднее. В июле 1918 года горсовет принял решение о муниципализации всего имущества Макарова. Среди 45 строений, подлежавших конфискации, значились все жилые дома, принадлежавшие Макарову. Но молодая советская власть не смогла в тот момент реализовать свое решение: дни ее существования на Севере были сочтены, близилась интервенция.
Окончательное крушение мира деловых людей произошло в марте-мае 1920 года. По приказу губернского революционного комитета Яков Макаров, как и все бизнесмены, в одночасье лишился всего: заводов, пароходов, жилых домов. Казалось, общественные потрясения унесли все, созданное архангельским бизнесменом за 45 лет неустанного труда. Но, оказывается, ничто в мире не исчезает бесследно. Долго еще архангелогородцы называли все пароходы пригородного сообщения «макарками». Другой топоним города Макаровские бани жив и сейчас.
Когда англичане предложили всем желающим эвакуироваться вместе с ними, он воспользовался этой возможностью. Бывший купец, потомственный почетный гражданин Архангельска Яков Макаров оказался в эмиграции. Он умер в Брюсселе в августе 1927 года.
По материалам портала «Архангельск в лицах»
Фото: imena.aonb.ru
Есть информация, что некоторое время здание использовалось как гостиница для иностранных моряков, поскольку в начале прошлого столетия именно в Соломбальской гавани швартовались большие иностранные суда. Впрочем, оно было построено, скорее, как жилой дом купцов Макаровых. А самым известным представителем макаровской династии был Яков Ефимович Макаров.
В начале пути
Родился Яков Ефимович Макаров в Архангельске в 1851 году. Его отец, Ефим Парфентьевич, прославился тем, что основал на берегу Северной Двины известные в Архангельске бани, расположенные между улицами Театральной и Пинежской. Чуть позже он соорудил чугунолитейную мастерскую в Соломбале.
В возрасте 16 лет отец послал его учиться в Петербург, в модный в то время Технологический институт (ныне – легендарная Техноложка). По возвращении на родину Яков Ефимович основал собственную мастерскую – на технической базе, принадлежавшей отцу. Отец же дал ему и первую рекламу. Опубликовал в «Архангельских губернских ведомостях» коммерческое объявление: «Сын мой, Яков Макаров, кончив курс учения в С.-Петербургском технологическом институте по мастерствам: литейному, слесарному, кузнечному, механико-токарному и пр., прибыл в Архангельск и в принадлежащих мне мастерских под личным своим наблюдением приспособил мастеровых к более удобной выделке изделий по новому способу и с применением новых усовершенствованных инструментов производит теперь отливку медных и чугунных вещей, требующихся на иностранные и русские суда и другие поделки… Надеюсь, что публика не оставит своим вниманием к заказам». Мастерская и стала началом собственного пароходства.
На левый берег и на Пинегу
У Макарова не было космических амбиций. Задача стояла достаточно скромная, но при этом вполне очевидная – обеспечить доступность окрестностей Архангельска. Природа так распорядилась, что даже практически все эти окрестности были островами, и сухим путем попасть на них можно было исключительно зимой. В другое время – только по воде. Но именно из-за «малого величия» этой задачи до Макарова никто ее даже не пытался решить. Было очевидно, что особых прибылей такое пароходство принести не может – в минус бы не выйти. Простой мужик, который валит лес или курит смолу, много, увы, не заплатит. Но Макаров понимал, что для полноценной городской инфраструктуры подобные рейсы являются жизненно необходимыми. Именно это соображение – а не извлечение сверхприбыли – было главным для него.
Сначала он построил три небольших пароходика, или «паровых барказа», для перевозки людей на левый берег и для пригородного сообщения. Документы сохранили названия макаровских судов. Это были «Перевозчик», «Соломбала» и «Первенец». По преданию, пароходик «Первенец» совершал рейсы по реке Пинеге, на нем не раз ездил на родину знаменитый Иоанн Кронштадтский.
Предпринимательский нюх молодого бизнесмена оказался безупречным: не за горами было время, когда к левому берегу подошла железная дорога и поток пассажиров из города устремился с речного на железнодорожный вокзал и обратно.
Вскоре в макаровской флотилии появились еще три парохода. Яков Ефимович не мудрил с их названиями. Они рождались естественно, сами собой: «Четвертый», «Пятый» и «Родина». А затем купец стал приобретать не только пассажирские, но и буксирные пароходы.
В конце XIX века предприниматель уже имел свой большой жилой дом, механический и лесопильный заводы, шесть пароходов, успешно вел заграничную торговлю. Уголь для нужд своих заведений и пароходов он выписывал из-за границы, чугун и железо приобретал на Усть-Сысольском и Кажимском заводах, лес покупал у частных лиц или с торгов в управлении государственного имущества. Общая стоимость имущества к тому времени составляла около 300, а годовой оборот капитала 500 тыс. рублей.
В начале ХХ века Макаров учредил акционерное общество «Архангельское речное легкое пароходство» с уставным капиталом в 100 тыс. руб. По уставу общества, подписанному Николаем II 26 апреля 1907 года, правлению разрешалось «приобретать в собственность, устраивать и арендовать строения, пароходы, суда, пристани, доки, верфи и другие сооружения».
Не роскошь, а гигиена
Тогда же Яков Ефимович унаследовал банное дело у отца, и приложил максимум усилий для того, чтобы бани сделались действительно народными. Как этого добиться? Рецепт один, и он известен. Снижать цены на билет. Только это способно сделать баню не роскошью, а гигиеническим учреждением.
Бани получились себе в убыток, но Макаров ежегодно делает ремонт, притом на собственные деньги. Больше того – обустраивает при банях купальню, дело и вовсе немыслимое по тем временам. В 1904 году Макаров строит Успенские бани в районе Санкт-Петербургского проспекта и Успенской улицы (угол проспекта Ломоносова и улицы Логинова), а в 1906-м строит баню в Соломбале, на Кузнечевском берегу Банного острова, недалеко от своего просторного дома.
Макаров любил технические новшества. В частности, одним из первых снабжает город электричеством. Пишет в газете «Архангельск»: «Сим имею честь довести до сведения гг. обывателей, что в скором времени в Архангельске будет готова моя электрическая станция, мощностью на первое время до 3000 ламп, при четырех машинах. Энергией могут пользоваться как для освещения, так и для двигателей беспрерывно круглые сутки; отпуск энергии и устройство проводов в квартирах будут исполняться на выгодных условиях. Желающие получить сведения и энергию, покорнейше прошу заявить лично или письменно в контору мою при заводе в Соломбале».
Человек необычайной энергии, Яков Ефимович не раз избирался гласным городской думы, стал известен многими делами. В 1913 году в одном из солидных изданий, увидевших свет в дни 300-летия дома Романовых, отмечалось: «Радея о нуждах родного города и будучи председателем пожарного общества, Макаров построил летний театр, доход с которого поступает на нужды пожарного общества, а теперь занимается устройством Народного дома… Яков Ефимович состоит директором Константиновского детского приюта, председателем Народного дома имени Петра Великого, вице-президентом бегового общества в Архангельске, директором местной тюрьмы, церковным старостой собора, членом попечительства о народном образовании при приходских училищах, казначеем Архангельского общества спасения на водах, членом портового присутствия от купеческого сословия, был председателем Сиротского суда и состоял беспрерывно в течение 16 лет гласным городской думы... Яков Ефимович кавалер орденов включительно до Владимира 4-й степени, имеет пожизненный знак Великого князя Владимира Александровича, знак общества спасения на водах, знак императрицы Марии Федоровны, медали от церковного ведомства, медаль за русско-японскую войну и в память Отечественной войны».
Накануне революции
Разумеется, всякое бывало в долгой жизни купца. Жители Соломбалы не раз жаловались в городскую думу на то, что Макаров огородил слишком большой участок суши и реки во время сооружения лесозавода, что, по их мнению, создало трудности для сообщения жителей Банного острова с городом. Не щадили Макарова и местные журналисты, резко критикуя непорядки в бане и на лесозаводе.
Крупная беда постигла купца в июле 1914 года: на бирже лесозавода почти полностью сгорел запас древесины. Получив страховку в размере 127 тыс. рублей, 63-летний заводчик сумел ликвидировать последствия пожара, не отошел от дел.
Испытания особого рода выпали на долю деловых людей России в 1917 году. Сразу же после февральской революции Яков Ефимович вкусил «прелести» новой власти.
Очевидец свидетельствует о том, что после получения вести о свержении царя рабочие-судоремонтники остановили работу макаровской лесопилки и отправились в город на демонстрацию. «При этом владельца завода, старика Макарова, – пишет он, – захватили с собой, предложив ему нести красное знамя. Наспех сделанный флаг был очень тяжел, так как полотнище его было прикреплено к длинной сырой рейке. Старик Макаров, протащив немного флаг, устал и взмолился, чтобы его освободили. Решили освободить, и флаг понесли другие».
Но это были только цветочки. Подлинная катастрофа разразилась позднее. В июле 1918 года горсовет принял решение о муниципализации всего имущества Макарова. Среди 45 строений, подлежавших конфискации, значились все жилые дома, принадлежавшие Макарову. Но молодая советская власть не смогла в тот момент реализовать свое решение: дни ее существования на Севере были сочтены, близилась интервенция.
Окончательное крушение мира деловых людей произошло в марте-мае 1920 года. По приказу губернского революционного комитета Яков Макаров, как и все бизнесмены, в одночасье лишился всего: заводов, пароходов, жилых домов. Казалось, общественные потрясения унесли все, созданное архангельским бизнесменом за 45 лет неустанного труда. Но, оказывается, ничто в мире не исчезает бесследно. Долго еще архангелогородцы называли все пароходы пригородного сообщения «макарками». Другой топоним города Макаровские бани жив и сейчас.
Когда англичане предложили всем желающим эвакуироваться вместе с ними, он воспользовался этой возможностью. Бывший купец, потомственный почетный гражданин Архангельска Яков Макаров оказался в эмиграции. Он умер в Брюсселе в августе 1927 года.
По материалам портала «Архангельск в лицах»
Фото: imena.aonb.ru
